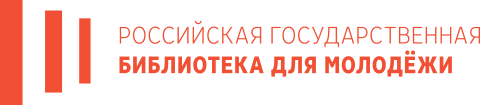Золотой петушок. От сказочности к научдраме
На свисающих с потолка длинных полупрозрачных экранах — то ли метель, то ли звёздное, уходящее в бесконечность пространство. Но вот откуда-то из небытия — то ли из прошлых времён, то ли из вымышленного, сотканного из света литературного мира, — возникают фигуры. И проявляются на их фоне. Публика, пришедшая увидеть спектакль «Последняя сказка Пушкина» по «Сказке о Золотом петушке», уже ждёт первых строк:
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Но вместо этого из писем и биографической канвы сплетается очерчивающая судьбу писателя предыстория, только потом переходящая в хорошо знакомую нам сказку.
Однако — так ли хорошо знакомую? Каждая новая деталь сюжета ведёт к пониманию того, что когда-то при прочтении ты не уделил ей должного внимания. И экспериментальная постановка, предполагающая минимум декораций, отбрасывающая всю внешнюю мишуру, заставляет тебя заново прочувствовать пушкинский текст: остаются только голоса актёров, искусно моделирующие громкость каждой сцены, и выверенные движения, картинно фиксирующие напряжение действия. И так — вплоть до кульминации, после которой следует красивое поминовение поэта: актёры собирают цветы, небольшой бюст, книги, свечи, наполненные бокалы на переднем краю сцены, чтобы создать импровизированный алтарь. Теперь можно включать свет.
Стремясь больше узнать о спектакле, мы побеседовали с его постановщиком — Дарьей Савиновой, режиссёром студенческой театральной мастерской «Дирижабль» при филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

— Можешь рассказать, как у тебя возникла идея сделать такой спектакль?
— Мы этот спектакль готовили для конференции, посвящённой 220-летнему юбилею Пушкина, это была международная научная конференция, которая проходила у нас на филологическом факультете. Оргкомитет попросил меня подготовить какой-нибудь спектакль, и я начала думать, что можно поставить из Пушкина, и выбор пал на «Золотого петушка». Я давно люблю эту сказку (не с детства, в детстве она никогда не была моей любимой), надо было поставить Пушкина — и всё сошлось.
— А ты раньше ставила Пушкина? Или это был первый опыт?
— Пушкина — нет.
— Страшно было к нему подступаться? Или это как при работе с любым другим автором?
— Да нет, не страшно. В принципе страшно ко всему подходить, особенно к тем авторам, которые уже поставлены гениальными режиссёрами. На их фоне не хочется быть банальным, повторяться. Но что касается Пушкина — Пушкин никогда ничего не писал для театра, даже те пьесы, которые он писал, он считал пьесами для чтения, а не для театра. И не думал, что его будут активно ставить, ему просто нравился этот жанр, он хотел себя в нём попробовать. Пушкин не тот автор, где режиссёр хочет помериться силами — в первую очередь это будут Чехов, Шекспир, хотя для русского режиссёра потом идёт Пушкин. Поэтому в случае со сказками открывается поле для фантазии и меньший груз ложится в плане исторического, культурологического наследия. Тот же самый Чехов — за твоей спиной оказываются миллионы гениальных сценических трактовок. Трактовки Пушкина относятся ко всему его творчеству — а он сам очень разный, поэтому чувствуешь себя немного спокойнее.
— Всегда ли твои спектакли такие минималистичные, ты предпочитаешь работать со светом?
— Со светом у нас впервые так получилось. Моя подруга Юля Кривошеенко — художник, дизайнер по свету — помогла мне создать этот спектакль. Но что скрывать, у нас студенческий театр, всё, что есть, — это комната и то, что я сама сумела купить, поэтому спектакли минималистичные. Я предложила Юле идею с Пушкиным и очень рада, что она за это взялась: придумала сетки — как их можно повесить, и это стало полноценной частью спектакля, а не просто декоративной вещью на заднем плане.
— Как родилось такое необычное сочетание — сама сказка и отсылки к биографии Пушкина, письма?
— Участники нашей театральной мастерской в основном студенты МГУ (большая часть с филфака), и мы начали думать над таким жанром — новым, его не было точно, — как «научдрама», научный театр, хотя концепция ещё в процессе разработки. Можно ли сценическими средствами пробовать отвечать на какие-то научные вопросы? Пока сугубо филологические, то есть по истории литературы, теории литературы. В случае с «Золотым петушком» получилась историческая справка. Это последняя сказка, которую Пушкин написал (отсюда — и название спектакля), и она была создана незадолго до его смерти. Предчувствие конца в творчестве тех годов сильно прослеживается. Мы поразмышляли о последних днях Пушкина, вставили его переписку, цитаты из статьи Блока о Пушкине, из писем и лекций филологов-литературоведов.
— Таким образом возникает более взрослая версия сказки?
— Мне кажется, дети её не любят, я её в детстве не очень могла понять — что к чему, какая-то сказочность там была несказочная, не та, которая привлекает детей. И действительно, непонятно, Петушок в начале спектакля — вещь или птица? Это уже такой философский вопрос, на который мало кто может ответить в детском возрасте. И зачем скопец просит Шамаханскую царицу? Там загадка на загадке в плане чисел, персонажей.
— Каковы твои впечатления от показа спектакля в библиотеке?
— Мы играем спектакли в Библиотеке для молодёжи уже не в первый раз. Библиотека нам помогает, не просто предоставляет место, но и поддерживает нас, и классно, что здесь молодёжная аудитория.